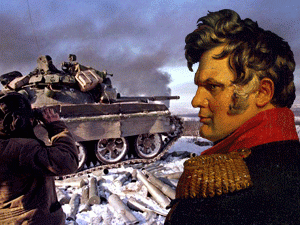| ЕВРАЗИЯ | http://evrazia.org/article/1773 | ||||
Северный Кавказ в пространстве русского дискурса
Кавказ имеет в этнической картине мира русского народа традиционно положительное значение, уходя при этом корнями в подсознание, архетипический слой психики русских Северный Кавказ давно стал местом и предметом напряженной идеологической борьбы, которая в данном случае есть лишь идеальное бытие геополитики. Один из аспектов этой борьбы и будет проанализирован автором в данной работе. При этом может возникнуть вопрос о необходимости использования в тексте, посвященном идеологическим процессам, такого понятия, как дискурс, спектр значений которого в настоящее время нельзя считать устоявшимся. Чем оправдана замена «идеологии» на «дискурс»? Православие не только не было воспринято горцами в качестве конфессиональной альтернативы: приход на Северный Кавказ православной империи привел к расширению здесь исламской идентичности.
Дело в том, что понятие идеологии в отечественном научном словаре употребляется в двух значениях, то есть тоже не однозначно. Одно из них представляет собой достаточно узкий, операционально-технологический подход к рассматриваемому термину. Согласно этому значению, идеология - представление конкретных социально-политических сил об их фактическом состоянии, целях и путях достижения этих целей. Выходя за рамки политической прагматики, следует признать, что идеологии - это не только определенные системы философских, художественных, нравственных, правовых, политических, экономических, социальных знаний о мире и роли человека в нем, которые организуют, регулируют, интегрируют и направляют деятельность индивидов во всех сферах жизни общества, но и лежащие в основе этих систем ценностные пласты. Это определение отражает сдвиг к онтологии в изучении феномена идеологии, связанный с возможностью выбора, пусть даже зачастую бессознательного, индивидами своих ментальных «оснований» в современном обществе. Человек традиционного общества, погруженный в практически без изменений воспроизводящееся бытие, в принципе лишен возможности такого выбора. Переход аграрных обществ на индустриальную стадию развития породил потенциальную свободу идентификации. Результатом этого процесса стала конкуренция дискурсов, как разнородных предлагаемых индивиду на выбор «поисковых программ». Дискурс в данном контексте можно определить, как совокупность структурирующих видение действительности, а посредством этого и саму действительность, механизмов надстройки. В каждом обществе должен быть один тотальный мегадискурс, который стягивает социум смысловыми, ценностно-нормативными скрепами. В то же время в границах господствующего дискурса или на границе с ним всегда располагаются конкурирующие дискурсивные образования. В основании господствующего дискурса, как правило, лежит этническая картина мира народа, являющегося субстратом данной национальной общности. Любая идеология для достижения своих прагматических целей должна соответствовать определенному дискурсу. В известном смысле, дискурс - это структура, а идеология - ее общественная функция. Только если идеология укладывается в рамки господствующего в обществе социокультурного дискурса, задающего этому обществу его символико-понятийный каркас, она будет выступать в нем мобилизующей силой. С этой точки зрения значение русского дискурса о Северном Кавказе трудно переоценить. Северный Кавказ - один из узлов русской культуры: ее расцвет синхронен включению Северного Кавказа в состав России. На кавказских сюжетах оттачивали перо как последние русские романтики, так и первые русские реалисты. То, что знакомство с Кавказом давало такие удивительные плоды - неслучайно: конец XVIII - начало XIX века в геополитическом и культурном планах является в известной степени антитезисом концу XVII - началу XVIII века с их гипертрофированным западничеством. Столкновение на Кавказе с образным, то есть «диким», миром Востока глубочайшим образом воздействовало на рационализм русской элиты. Именно в этот период либо в тесной связи с ним возникают классические тексты, которые представляли собой отражение русского национального (этнического) сознания через призму борьбы за Кавказ. Эта борьба совпала с рождением русской нации как таковой, и тексты, слышанные ею при рождении, навсегда отпечатались в ее подсознании. Русский человек может не знать Алексея Ермолова, не читать «Хаджи-Мурата», но в каждом из произведений русских «кавказцев» он неминуемо узнает себя и свой народ. Итак, представления о Северном Кавказе являются одной из констант русского этнического сознания. Если рассмотреть их в понятиях этнической картины мира, то под источником добра будет пониматься выработанный русским народом «образ себя»; под источником зла, или, точнее, образом другого, Северный Кавказ в его «диких», с точки зрения русской ментальности, характеристик, а под представлением о способе действия, ведущем к победе добра над злом - или к превращению другого в себя - функционирующие в русском общественном сознании проекты интериоризации («обволакивания») или отторжения Россией Кавказа. Поскольку в целом этническая картина мира есть проявление защитной функции культуры в психологическом аспекте, рассмотрение функционирующего на ее основе русского дискурса о Кавказе позволит ответить на вопрос, является ли северокавказский вызов, ставший, судя по всему, уже архетипом русской истории, фактором воспроизводства русского этнического самосознания или, напротив, представляет собой психологическую угрозу ему, вплоть до разрушения механизмов этнической адаптации. Иначе говоря, анализ представлений о Кавказе позволяет определить национальный потенциал воли и сознания русских, поскольку русские «слово, речь, пропаганда», содержащие рефлексию на Северный Кавказ, составляют этнический дискурс о регионе, как механизм, в зависимости от обстоятельств либо концентрирующий, либо разрушающий жизненный потенциал русского народа. Очевидно, что обстоятельства эти в 90-е годы XX века были не самыми благоприятными. Изживание новой российской политической элитой наследия Красной империи встретило активную поддержку со стороны политических и культурных элит практически всех нерусских этносов распадавшихся СССР и РФ. Вакуум политической воли и культурного авторитета быстро заполнялся претендентами на доминирование в том или ином регионе постсоветского пространства. Разрешенная и поощряемая новыми суверенами ненависть к слабевшей державе, являвшаяся обратной стороной подсознательного традиционного восхищения ею, нередко приводила к сочетанию в сознании одного и того же этнонационального идеолога претензий к России, и национальной гордости за художника Захарова, царского генерала Александра Чеченского, а также спикера парламента сверхдержавы (Руслана Хасбулатова), сделавших себе имя посредством вхождения в русскую культуру. Работы северокавказских историков, политиков, общественных деятелей 90-х годов XX века в большинстве своем проводят идею о наличии у России четкой программы колонизационных действий в отношении Кавказа. Программа эта включала в себя, во-первых, перераспределение природных богатств региона в пользу русских колонистов, а, во-вторых, осуществление политики геноцида по отношению к коренному населению. Между тем Северный Кавказа с точки зрения его включения в состав Российской империи и достижения в дальнейшем его однородности с остальным имперским пространством, воспринимался русским самосознанием далеко не однозначно. Восприятие Северного Кавказа как части России со всеми вытекающими отсюда политическими, социально-экономическими и культурными последствиями для данного прото-региона находилось в постоянном конфликте с настороженностью русского самосознания по отношению к дикому и враждебному горному краю. Часто оба этих мотива сосуществовали в одном сознании, что было вполне закономерно: и восприятие Северного Кавказа через призму его русификации, и убежденность в необходимости ухода с диких гор основывается на ощущении несовпадения, онтологического расхождения основ русского и северокавказского «миров». Однако, развитие исторического процесса существенно изменило эти взгляды. Сторонники русификации Северного Кавказа в своем противостоянии с коренными народами вынуждены были очень быстро «окавказиться». Русификация региона оказалась невозможной в силу синтеза русского и кавказского начал в сознании и стиле поведения колонизаторов. В обществе возникла прослойка русских кавказцев, которые, благодаря оказавшимся в их рядах столпам русской культуры (Пушкин, Лермонтов, Грибоедов, Толстой) и национальным героям (Ермолов прежде всего), смогли сделать свое видение Кавказа неотъемлемым, базовым элементом русского дискурса о регионе, в частности, и русского национального дискурса вообще. Тем не менее идея ухода России с Кавказа сохранилась; если учесть последствия пребывания на Северном Кавказе русских, то эта идея суть протест против еще одного фактора «овосточивания» «Руси», скатывания ее в «азиатчину». Как же происходит «окавказивание» русских? В чем оно выражается? В чем его онтологический смысл и, исходя из этого, каковы перспективы в русском самосознании идеи отказа от Кавказа? Уже Ермолов указывает в своих «Записках» на две основные линии в отношении Северного Кавказа. Первая линия заключалась в стремлении к умиротворению Кавказа, как сказали бы современные исследователи, исключительно политическими методами. Между тем подобная - «политическая» - стратегия, по мнению Ермолова, ведет не к укреплению имперского суверенитета на Кавказе, а к его ослаблению: не по заслугам обласканный «хан сей дани никакой не платит, никаких обязанностей на себя не принимает». Более того, «не могли подобные предложения наград людям, явно нам не доброжелательствующим, не поселить в них мысли, что их ласкают из боязни, и оттого возрастала дерзость их». Сам Ермолов к такой практике «политического урегулирования» относился резко отрицательно: если «многие из предместников» его верили в искренность горцев, то «проконсул Кавказа» предпочитал «показывать... вид до времени». Ермолов понимал, что «по обычаям земли, чем знатнее владелец, тем большее число должен иметь приверженцев, которые не иначе приобретаются, как подарками и деньгами». Именно на данных «обычаях земли» основывается ермоловский алгоритм подчинения Кавказа Россией: «со всеми... был я в приязненной переписке в ожидании удобного случая воздать каждому по заслугам». Этот алгоритм полностью аналогичен многократно описываемым Ермоловым действиям кавказских «разбойников, нам злодейски изменявших»; иначе говоря, по мнению Ермолова, покорение Кавказа было возможно только посредством использования тех же методик, с «цивилизованной» точки зрения коварных, разбойничьих и т. д., которые применялись коренным населением здешних мест против колонизаторов. Какие же модули русского национального мегадискурса, встраиваясь в русский дискурс о Кавказе, питали усилия народа по его освоению? Определив их как «православный» и «державно-армейский», рассмотрим данные модули более подробно. Как известно, принятие православия из Византии сыграло решающую роль в процессах консолидации славянских племен в русский народ. Восприятие московскими государями себя в качестве преемников Второго Рима явилось важнейшей причиной переноса на евразийские пространства алгоритма имперской политики Константинополя, павшего под ударами османов. Алгоритм этот базировался на идее державного строительства как исполнения религиозного долга. Однако, православие не только не было воспринято горцами в качестве конфессиональной альтернативы, хотя Ермоловым и упоминается «священник, проповедующий в горах христианскую веру и весьма уважаемый по его благочестию»: приход на Северный Кавказ православной империи привел к расширению здесь исламской идентичности. «Кабардинцы менее гораздо ста лет назад были идолопоклонниками, - замечает А.П.Ермолов. - Правительство допустило мусульманскую веру водвориться». При этом, подобно тому, как Русь вместе с православием унаследовала от Византии имперский проект, Кавказ вместе с исламом воспринял от его государств-адептов мощные антиправославные интенции. Столь негативная массовая реакция на столп русской этнической идентичности вызвала немедленного осмысления: отрицательная значимость православной идентичности в горах Северного Кавказа требовала компенсации на уровне этнического сознания. Компенсаторные усилия эти были предприняты поначалу в плане симметричного ответа северокавказскому вызову: пренебрежение горцев к православию вызвало ответное пренебрежение православных к горскому исламу. Так, Ермолов пишет о муллах, как о «самых величайших невеждах, которые из всех исповедующих закон мусульманский, как будто для того собраны в Кабарде, чтобы славиться мудростию своею между людьми, еще большей степенью невежества омраченными. Князья кабардинские первое между таковыми занимают место». Итак, причина принятия ислама Северным Кавказом не в социокультурной ограниченности православия, а в невежестве и корысти северокавказской элиты: «Кабардинским князьям потому выгоден шариат или суд священных особ, что они, пользуясь корыстолюбием их, в решении дел всегда могут наклонить их в свою пользу в тяжбах с людьми низшего состояния...» При этом «простой народ, когда требовала польза знатнейших и богатых, всегда был утесняем, и бедный никогда не получал правосудия и защиты». Данная критика Ермоловым северокавказского варианта ислама имеет важный момент с точки зрения компенсации в русском этническом сознании проблем, связанных с осуществлением в колонизуемом цивилизационном пространстве православно-имперского проекта. В трактовке Ермолова северокавказский вариант ислама представляет собой исключительно нормативную подструктуру целерациональной культурной системы. Для русского этнического сознания стремление к личной выгоде - признак бескультурья. Отсюда указание на социальную ангажированность религии, парализовавшей развитие православия в зоне своего социокультурного влияния, снимает проблему бессилия Православия в регионе, лишая северокавказский Ислам статуса ценностно-рационального феномена. Проблема несоответствия Православия ментальным характеристикам народов Северного Кавказа превращается при этом в проблему несоответствия Северного Кавказа культурным требованиям Православия. Не-истинность северокавказского варианта ислама видится Ермолову и в том, что данный вариант не выполняет важнейшую функцию культурного феномена, а именно адаптацию генотипических характеристик этноса к окружающему миру, которая представителю русского народа видится как репрессия, подавление личных целей и планов, генотипических склонностей вообще. Между тем, по мысли Ермолова, ислам на Северном Кавказе является не механизмом трансляции высших ценностей, а механизмом легитимации отрицательных естественных характеристик коренного населения: «чеченцы... самые злейшие из разбойников, нападающих на линию». При этом ислам способствует не смягчению их нравов, а росту их «дерзости». Отсюда очевидно, что не-истинность северокавказского варианта ислама, с точки зрения Ермолова, как и любого носителя православно-имперского сознания, заключается прежде всего в антигосударственном потенциале этого социокультурного феномена: в этническую картину мира, отождествлявшую религиозное и державное могущество, не укладывалось «вредное влияние глупого и невежественного духовенства, которое со времени удаления князей от судопроизводства и уничтожения их власти в народе произвело все беспорядки и разбои» - анархию, одним словом. Отсюда попытки Ермолова «цивилизовать» северокавказский ислам: «Издал я постановление в рассуждении священных особ, коим определено нужное количество, им - приличное содержание. Положены правила для постепенного возведения в звание ефендиев и ахундов. Воспрещено посылать за границу для обучения закону... Постановлением уничтожено невежественное постановление звания мулл сохранять наследственно в семействах, отчего произошло, что большая часть таковых ничему не имели нужды учиться и о законе ни малейшего понятия не имеют». Таким образом, православно-имперский модуль русского дискурса о Кавказе обусловил восприятие северокавказского варианта ислама следующим образом: поскольку любая система воззрений, претендующая на статус религиозной, этатична по своей сущности, «разбойничья», или антигосударственная, деятельность священнослужителей и верующих - следствие их невежества в религиозных вопросах. Отсюда делается вывод о том, что северокавказский ислам - ненастоящий, а северокавказские народы - не истинные мусульмане. Данный вывод также имел важное компенсаторное значение: Православие не проигрывало Исламу - своему главному, в силу соседства в Евразии с ее религиозной чересполосицей, конфессиональному конкуренту - битву за Северный Кавказ. Обе религии оказались не в силах окультурить местные племена, ищущие в религии не способ самообуздания, а источник трансцендентного санкционирования «диких страстей», что ведет к их дальнейшей консервации в северокавказской повседневности. Мысль, что религиозная идентичность большинства народов Северного Кавказа - это не-истинный или, точнее, недовоспринятый ислам, стала одной из ключевых в русском национальном дискурсе о Кавказе. К ней обращались и обращаются доныне и сами кавказские этнонационалисты. Но если для них слабая религиозность соплеменников, как правило, свидетельствует о необходимости дальнейшей положительной работы в направлении исламизации кавказского социокультурного пространства, то концепция северокавказского не-истинного ислама в русском дискурсе о Кавказе, с точки зрения православно-имперского сознания, сокращает поле действия на державном пространстве крупнейшего конфессионального конкурента православной традиции. Итак, принятие ислама не сказалось принципиально на бытии северокавказских народов. Язычество не было преодолено до конца, исламские воззрения стали придатком, дополнением традиционной системы ценностей. Акцентирование русским национальным сознанием «непринципиальности» исламизации Северного Кавказа является свидетельством того, что религиозный модуль русской этнической картины мира подспудно продолжает функционировать и в отношении данного региона; русское самосознание - в силу исконного экспансионизма любой религиозной традиции - не отказалось от Православного проекта, тем более в отношении региона, «занятость» которого другой религией не признается. Также из этого следует, что на Северном Кавказе Православие не посягает на «чужую» территорию; оно ратует за восстановление традиции. Ответ на вопрос, какая сила должна это сделать, очевиден: это должна сделать армия. При этом было бы упрощением ограничивать роль армии в русском дискурсе о Кавказе исключительно выполнением функции «христова воинства». Скорее, армия в нынешнем русском этническом сознании представляет собой ипостась державного модуля русской этнической картины мира. Остановимся на этом более подробно. По Владимиру Далю, самодержавное управление есть «управление монархическое, полновластное, неограниченное, независимое от государственных учреждений, соборов, или выборных, от земства и чинов». В данном случае перед нами описание исторической, то есть преходящей, формы державного модуля русского национального мегадискурса. Социопсихологическая основа его может быть определена как «тоска по сильной руке», а может быть обозначена и как этатизм, державничество. Претендующее на реализм и объективность пропагандисткое разрушение «армейского» модуля русской этнической картины мира практически равносильно уничтожению собственно самосознания русского народа.
При этом Центр, как правило, не обладал в глазах русских «кавказцев» монополией на власть над Кавказом. Так, например, Грибоедов считал Ермолова практически неограниченным властителем края. Сам Ермолов, отмечая изначальную «полезность и благородность» распоряжений правительства, то есть имперского Центра, тонко намекал тем самым на то, что при их выполнении «на местах» они становились и глупыми, и вредными. Впрочем, в 90-е годы XX века кавказская политика центральной власти вообще стала поводом для обвинений части политической элиты России в «неформальных отношениях» с официальными врагами российской государственности: убежденность в том, что «чеченский кризис» имеет кремлевские корни, во второй половине 90-х охватила широкие слои населения. Отношение «Российский Центр-Северный Кавказ», при котором оба элемента бинарной оппозиции существуют сами по себе, соприкасаясь исключительно при форс-мажорных обстоятельствах, вовсе не является реалией только лишь демократической России. Отношение, среднее между ненавистью, презрением и безразличием, северокавказского сегмента русского этнического сознания к региональным инициативам Николая Первого, первого в ряду российских «первых лиц»-завоевателей Кавказа, отразилось в «Хаджи-Мурате» Толстого. Уставший от разврата, нездоровый, мучащийся в глубине души от собственной стратегической бездарности самодержец, ничтожество, мнящее себя великим человеком, он отдает в отношении действий русской армии на Кавказе распоряжение «усиленно тревожить Чечню». Толстой описывает «аул, разоренный набегом» «во исполнение предписания Николая Павловича» следующим образом: «О ненависти к русским никто и не говорил. Чувство, которое испытывали все чеченцы от мала до велика, было сильнее ненависти. Это была не ненависть, а непризнание этих русских собак людьми и такое отвращение, гадливость и недоумение перед нелепой жестокостью этих существ, что желание истребления их, как желание истребления крыс, ядовитых пауков и волков, было таким же естественным чувством, как чувство самосохранения». И это - не описание отношения чеченцев к русским; это отношение русского «кавказца» к «кавказской» политике Центра, олицетворяемого самодержцем. На наш взгляд, в русском мегадискурсе «державнический» модуль для большинства представителей этнической общности совпадает с армией; для русского самосознания армия - институт народного «самодержавства». Попытаемся разобраться, почему так происходит. Традиционный образ самодержца в русской этнической картине мира виделся как «свой» в стране «чужих», то есть в государственной администрации; институт царизма, появившийся значительно позднее, чем институт мирского самоуправления, тем не менее оказался в народном сознании тесно связан с «миром», как базовой структурой русской этнической общности. Таким образом, сама по себе «державническая» этническая константа русского сознания представляет «образ покровителя» этноса, обеспечивающего бесперебойное функционирование этнического организма, или, другими словами, поступательное осуществление Православно-имперского проекта. Учитывая то, что и с ростом централизации «мир» в глазах народа оставался самодовлеющим целым и пользовался высшим авторитетом, русское сознание в качестве покровителя всего народа как «мира» могло выбрать только тот институт, функционирование которого обеспечивалось бы прямым и наглядным образом каждым отдельным «миром» и в то же время всеми «мирами» России вместе. Таким институтом была русская народная армия. При этом интенсивный образ царя в качестве защитника в сознании народа сложился в результате изначально сугубо военного характера Московского государства, а, следовательно, и аналогичного характера царской власти как института. Данная диспозиция элементов: «глава государства - армия - народ» сохраняется в русской этнической картине мира и в настоящее время. Обогнав в ряде случаев на Северном Кавказе традиционных землепроходцев - крестьян, русские воины понимали причину этого забегания вперед: колонизация, по крайней мере, первоначальная, «пионерская», выгодных прежде всего с геополитической, а не с экономической точки зрения земель (для экстенсивного типа хозяйствования, свойственного русскому колонизационному потоку, земельный дефицит на Северном Кавказе был тем фактором, который во многом лишал кавказские земли притягательности для русских колонизаторов) может быть только армейской колонизацией. Отсюда - типично «пионерское» стремление русских колонизаторов лежащих за Линией земель Северного Кавказа насколько возможно оторваться от метрополии, действовать на свой страх и риск, поскольку по алгоритму колонизации Центр и русская государственность вообще должны были появиться на колонизуемых землях только на следующем этапе, прийти вослед первому эшелону колонизации. Итак, географические и тесно связанные с ними социально-экономические особенности Северного Кавказа обусловили «армейский» характер колонизации значительной части земель региона. На долю военных на Северном Кавказе выпадало зачастую единоличное осуществление вашнейшей - колонизационной - доминанты традиционного поведения русского народа. Поэтому проблема боевого потенциала русской армии на Северном Кавказе, ее сравнительных с горским воинством характеристик представляла собой не только проблему интериоризации Российской империей этого края, но и являлась очередным тестом на прочность Православно-имперского проекта вообще. Сравнение горцев и русской армии по различным «боевым» показателям - одна из частых тем в северокавказском этническом и русском - державническом - дискурсах. При этом русский дискурс имел важное ограничение: военные неудачи армии должны были объясняться исключительно субъективными причинами, а именно либо психологическими характеристиками военачальников (нерешительность, глупость и т. д.), либо психологическими характеристиками горцев (коварство, фанатизм и т. п.). Это тем более следует отметить, что на смену уверенности в принципиальном превосходстве регулярной армии над «ополчением» в нашем обществе в последнее время успела утвердиться мысль о принципиальной непобедимости «партизанского движения»: «народ победить нельзя». К тому же военные качества кавказских горцев многими оценивались и в прошлом, хотя и с оговорками, но в основном более высоко, чем аналогичные качества русской армии. Сама мысль об относительной слабости русской военной машины по сравнению с военными формированиями горцев не могла и не может возникнуть в традиционном русском этническом сознании, поскольку в корне противоречила «державническому» модулю русского национального мегадискурса. Напротив, убежденность в безусловном превосходстве русской армии над «разбойниками» пронизывает, например, «Записки» Ермолова: для того, чтобы рассеять неприятеля в горах Кавказа, бывает достаточно «залпа впереди стрелков, крика «ура» и барабана». Привлечение горцев к совместному участию с русскими в боевых операциях имеет исключительно политическое, а не военное оправдание: «Со мною находился шамхал, которому поручил я под начальство собранных по приказанию моему мехтулинцев, с коими соединил он своих подвластных. Не имел я ни малейшей надобности в сей сволочи, но потому приказал набрать оную, чтобы возродить за то вражду к ним акушинцев и поселить раздор, полезный на будущее время». «Державно-армейский» модуль русского мегадискурса, выражавшийся в отождествлении жизненного потенциала народа и военной мощи народной армии, явился одной из причин затяжного характера и «ошибок», проистекающих из недооценки противника, в период Кавказской войны. Соотношение уровней цивилизационного развития русского и северокавказских этносов автоматически проецировалось русским этническим сознанием в военную сферу, без внесения определенных поправок в реестр параметров, по которым происходило сравнение. Однако, обе чеченские кампании показали, что претендующее на реализм и объективность пропагандисткое разрушение «армейского» модуля русской этнической картины мира практически равносильно уничтожению собственно самосознания русского народа. Защита носителями традиционного сознания этноса «армейского» модуля русского мегадискурса проявляется по ряду направлений, важнейшее из которых - отказ воспринимать итог первой чеченской войны как поражение русской армии. Убежденность в принципиальном превосходстве русской армии над противником объясняет уже упоминавшуюся склонность общественного сознания воспринимать идею «партнерства» представителей российской политической элиты и врагов России как данность: «муки и позор первой, остановленной чеченской войны» при наличии такой установки общественного сознания, позволяющей в сложившейся обстановке сохранять русскую этническую картину мира, русский национальный мегадискурс и, значит, сам русский народ, объясняются предательством Лебедя, изменой Черномырдина, двуличием Березовского, лицемерием Рыбкина. Усиление в результате успешных боевых действий во вторую чеченскую компанию «армейского» модуля русского национального мегадискурса привело к очередной корректировке взглядов российского общества на перспективы пребывания Северного Кавказа в российском политическом пространстве. Поскольку выше речь шла о «православном» и «державно-армейском» модулях, нетрудно догадаться, исходя из знаменитой уваровской триады, что третьим модулем в этом ряду будет собственно «народнический». Суть данного модуля заключается в подпитке колонизационного потенциала русского народа, успешность проявления которого является предпосылкой воспроизводства Православно-имперского проекта и служит важным моментом в выстраивании русскими своей этнической идентичности. Принявшее катастрофические масштабы вытеснение титульным населением русских из стран СНГ, а также северокавказских республик РФ привело к фактическому разрушению данного модуля русского национального мегадискурса; в результате уже в начале 90-х годов, задолго до начала боевых действий в Чечне, в русский дискурс о Кавказе вбрасывается идея полного ухода России из региона; популярность этой идеи в дальнейшем была прямо пропорциональна уровню политической напряженности на Кавказе. Несмотря на то, что в русском сознании идея ухода с Кавказа приобрела достаточно широкую поддержку, став своего рода программным положением для ряда политических партий и движений, с самого начала ее появления было указано на негативные стороны самоустранения России от кавказских дел. Прежде всего отмечалось, что расчет избежать Кавказской войны, уйдя с Кавказа, ошибочен. Кавказ настолько связан с Россией, что отмежевание ее от проблем региона приведет к войне на южных границах России, в которую последняя так или иначе, но все равно будет втянута. Такая война обострит для России проблему беженцев, терроризма, национализма и т. д. Поэтому правопреемница Российской империи и СССР должна усилить свое присутствие на кавказе, применяя не столько военную силу, сколько экономическое принуждение, закулисная дипломатия, использование внутрирегиональных противоречий. Рост сепаратистких настроений в РФ, ослабление российского центра и т. д. привели к еще большему акцентированию своих позиций, с одной стороны, сторонниками ухода с Кавказа, а, с другой, сторонниками присутствия России в регионе. На наш взгляд, русский дискурс о Кавказе представляет собой в настоящее время пространство внутриэтнического функционального конфликта, назначение которого - определить цивилизационную идентичность России в данной точке бифуркации. Место, занимаемое тем или иным носителем русского самосознания в пространстве русского дискурса о Кавказе, позволяет выстроить вектор цивилизационной ориентации данного индивида. Очевидно, что уход России с Кавказа или, как минимум, ослабление ее позиций в регионе на протяжении 90-х годов XX века в той или иной форме выступал условием так называемой интеграции России с Западом. Кавказ, как ворота России на Ближний Восток, стал в этот исторический период противовесом полноправному, хотя и гипотетичному, членству РФ в структурах «западного мира» в условиях имитации Россией выбора цивилизационной ориентации, причем, возможно, последней имитации. В данной ситуации широкая поддержка населением страны воюющей на Кавказе армии свидетельствует о возможном повороте русского этнического сознания на Восток, повороте, подобном тому «востокофильству», в которое обращались попадавшие на Кавказ в XIX веке «европеизированные» русские дворяне. Рост православной идентичности и авторитета армии способны вызвать оживление архетипического слоя психики русского народа, что ведет, в частности, и к расширению положительной реакции на Восток с его социокультурными характеристиками (традиционализм, самобытность, общинность). Таким образом, Восток имеет в этнической картине мира русского народа, составляющей субстрат русского национального мегадискурса, традиционно положительное значение, уходя при этом корнями в подсознание, архетипический слой психики русских. Отсюда негативное восприятие в русском этническом сознании идеи «ухода» с Кавказа. Восток вообще и Кавказ в частности продолжают оставаться для русского народа важной координатой его цивилизационной ориентации, что обуславливает восприятие Кавказа как неотъемлемой части России и постоянно воспроизводит в русском этническом сознании стремление к его интериоризации, как шага на пути к «Русскому Раю». Виталий Уланов
Материал распечатан с информационно-аналитического портала "Евразия" http://evrazia.org
URL материала: http://evrazia.org/article/1773 |
|||||