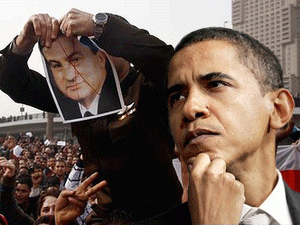| ЕВРАЗИЯ | http://evrazia.org/article/1631 | ||||
Сражаясь с леопардистской стратегией
Соединенным Штатам, что бы они не утверждали, свержение Мубарака оказалось крайне невыгодным, и пока неясно, как будут дальше развиваться египетские события Тучи над бывшим президентом Египта Хосни Мубараком сгущаются - из-под домашнего ареста он угодил уже в «казенный дом», и перспектив на беззаботное проведение остатка жизни в какой-нибудь давно приобретенной резиденции у него становится все меньше. Впрочем, больше, чем безрадостное будущее Мубарака, нас волнует будущее Египта и его положения на международной арене. Политика двойных стандартов по отношению к Египту стала каждодневной практикой руководства США. Именно поэтому президент Обама отметился столь лицемерной критикой в адрес «коррумпированного и репрессивного режима».
Проблема, с которой во время египетских беспорядков столкнулся американский президент Барак Обама, и которая, как видно, до сих пор стоит перед ним, заключается в необходимости построения «мубаракизма» без самого Мубарака, то есть в обеспечении непрерывности американского влияния при смене правящего режима. Хиллари Клинтон в свое время заявляла о необходимости по возможности избежать полного безвластия в Египте. По ее словам, на тот период цель Белого дома заключалась в поэтапной передаче власти демократическим властям, социальных реформах, экономической справедливости. Вопреки ожиданиям, тогда президент США Барак Обама не потребовал немедленного отстранения дискредитированного лидера от власти. Потому что, заявив об этом, он начал бы действовать вопреки решению Госдепартамента США, отражающего геополитическую стратегию, которая исправно функционирует, начиная с Шестидневной войны в 1967 году. Эта концепция поддерживается с 1981 года, когда был убит Анвар Садат и к власти стал пробиваться тогда еще вице-президент Хосни Мубарак. Садат стал ключевым элементом политики США и Израиля потому, что стал первым главой арабского государства, признавшим государство Израиль и 26 марта 1979 года подписавшим мирный договор между двумя странами. Однако Садат и израильский премьер-министр Менахем Бегин все еще испытывали некоторое волнение и беспокойство из-за пяти войн и бесконечных мирных переговоров, от которых тут же пришлось отказаться из-за известий о том, что 16 января того же года стратегический союзник США в регионе – иранский шах – был сброшен с престола в результате народной революции и начал искать убежища в Египте. Свержение шаха привело к провозглашению Исламской Республики под предводительством Аятоллы Рухолла Хомейни, для которого Соединенные Штаты и вся «американская цивилизация» были не чем иным, как «Большим Сатаной», заклятым врагом ислама. Хотя насильственное свержение шаха с политической шахматной доски и потрясло весь Ближний Восток, новости из центральной Америки были не лучше: 19 июля 1979 года силы Сандинистского фронта вошли в Манагуа (столица Никарагуа) и положили конец диктатуре давнего сторонника США в регионе – Анастасио Сомоса, усложнив тем самым геополитическую ситуацию в Северной Америке. С этого момента главной задачей внешней политики США стало любой ценой вернуть Египту функцию стабилизатора всей ближневосточной политики, несмотря даже на царившую при Мубараке коррупцию, процветающий наркотрафик, отмывание денег на фоне стабильного обеднения и исключения общества из политической жизни. Такая политика двойных стандартов по отношению к Египту стала каждодневной практикой руководства США. Именно поэтому президент Обама и госсекретарь, когда над Мубараком навис меч «народного гнева», отметились столь лицемерной и притворной критикой в адрес «коррумпированного и репрессивного режима», который Америка поддерживала и финансировала в течение десятилетий, призвав руководство Египта к реализации экономических, социальных и политических реформ. Это тот режим, который Вашингтон регулярно снабжал узниками для проведения пыток без каких бы то ни было правовых ограничений, при котором в центре Каира без всяких препятствий «для ведения войны с терроризмом» функционировал (да и сейчас функционирует) штаб ЦРУ. Более того, это тот режим, который блокировал работу интернета и мобильной связи в ответ на малейшую критику Вашингтона. Стоит задуматься, была бы реакция на подобные злоупотребления столь же мягкой, если бы речь шла, например, об Уго Чавесе. Когда Обама утверждал, что Мубарак пересек «критическую точку невозврата», он стоял перед дилеммой строительства «мубаракизма» без Мубарака, то есть ему было необходимо сохранить американский контроль над регионом с помощью нового ставленника, не причастного к действующему режиму. Как сказал один из персонажей известного романа «Леопард» сицилийского автора Джузеппе Томази ди Лампедуза, «что-то должно измениться, если мы хотим, чтобы все осталось по-прежнему». Вторая альтернатива заключалась в приходе к власти крайне непостоянного гражданско-военного альянса, при котором оппозиция Мубараку сохраняла бы еще большее влияние, разжигаемая сильнейшим давлением снизу.
Это именно та формула, которую безуспешно пытался утвердить Вашингтон за месяц до свержения Сомосы в Никарагуа, пытаясь утвердить одну из фигур самого режима – Франциско Уркуйо, президента Национального конгресса, чьей первой и, фактически, последней инициативой на посту президента была попытка убедить Сандинистский фронт, который крушил Национальную гвардию Сомосы в любом уголке страны, сложить оружие. Сандинисты решили, однако, что более целесообразно свергнуть его сразу же после этого, а бывшего президента в Никарагуа стали называть «Уркуйо-однодневкой». В феврале 2011 года Белый дом попытался провернуть нечто похожее: американские политики давили на Мубарака, чтобы тот назначил вице-президента и не повторился провал с Уркуйо. Но выбор Мубарака оказался какой-то злой и глупой шуткой - именно так можно расценивать на эту должность главы военной разведки Омара Сулеймана – бескомпромиссного человека, известного своей враждебностью относительно демократической открытости Мубарака. Когда эти массы вышли на улицы и начали громить ненавистных полицейских, штаб-квартиры правящей партии, а также всенародно презираемых шпионов и информаторов вместе с представителями государственной разведки, Мубарак попросил именно шефа этих самых подразделений возглавить демократические реформы! Нельзя было придумать более злой шутки над всеми египтянами, вышедшими в те дни на улицы и требующими свержения правления Мубарака. Реализации этого идиотски оригинального замысла помешала армия. Когда 11 февраля Мубарак объявил о своей отставке в пользу Высшего совета Вооруженных сил, Сулейман перестал быть вице-президентом, хотя формально и должен был сохранить свой пост. Впрочем, он был включен в состав временно возглавившего страну Высшего военного совета. В традиции марксистского социализма такое положение, когда «верхи не могут, низы не хотят», называется революционной ситуацией. В феврале в Египте те самые верхи не могли, потому что полиция была повержена в уличных боях, в то время как офицеры и простые солдаты братались с протестантами вместо отчаянной с ними борьбы. Альтернативы, которыми на тот момент располагали Соединенные Штаты, были малочисленны и малоприятны. Первая полагала «леопардизм», то есть поддержку существующего режима лишь с некоторыми косметическими преобразованиями и новыми лицами в руководстве, за который пришлось бы платить феноменальную политическую цену – не только в арабском мире, но и на Западе и в самих США – для наглой защиты своих позиций и привилегий в ключевом регионе мира, тогда как разрушение этих же стандартов самим Белым домом должно было доказывать неоспоримое лидерство демократической политики США. Вторая альтернатива заключалась в приходе к власти крайне непостоянного гражданско-военного альянса, при котором оппозиция Мубараку сохраняла бы еще большее влияние, разжигаемая сильнейшим давлением снизу. Третий вариант - худший из кошмаров, полагал, что наступит дефицит власти, и исламистские Братья-мусульмане захватят власть силой. Время показало, что более или менее реализовался второй сценарий - к власти в Египте пришел Высший совет Вооруженных сил. Почему «более или менее» - потому что «гражданской» составляющей во временном правительстве не оказалось, да и сам совет, несмотря на обещанные осенью этого года президентские выборы, по своему характеру больше напоминает пресловутую военную хунту. Теоретически эта альтернатива, так же, как две остальные, не обещает значимого улучшения позиций США. Однако, не знаем ли мы из истории, что военные хунты слишком часто оказывались проводниками именно американской политической воли? И пускай «обновленный» Египет пропустил иранские корабли через Суэцкий канал - это еще ничего не значит. В конце концов, это может быть элементом элементарного политического торга. Если бы новый правящий режим захотел досадить Израилю «как следует», он предпринял бы меры куда более радикальные. Так что, быть может, «леопардизм» все-таки прошел? Подождем до осени, до выборов - тогда о разрешении «египетского вопроса» американскими политиками можно будет говорить более определенно. Атилио Борон
Материал распечатан с информационно-аналитического портала "Евразия" http://evrazia.org
URL материала: http://evrazia.org/article/1631 |
|||||