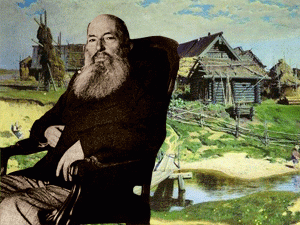| ЕВРАЗИЯ | http://evrazia.org/article/1346 | ||||
Молятся звезды
Даже самые небесные, самые звездные лирические стихи Афанасия Фета – от земли, от живой и одухотворенной почвы России, от великой державы Сколько золотых искр полетит из-под новых подков на копытах Закраса, когда по каменистой дороге Фет будет мчаться в сторону Ясной Поляны! Наверное, не меньше, чем слетает их сейчас с наковальни кузнеца, перековывающего Закраса; не меньше, чем взлетает их над раскаленными углями. Но Фет об этом не думал и едва ли подозревал, что столетия спустя кто-то будет поэтизировать самую заурядную прозу жизни. Никто бы не догадался сделать это, если бы Фет не догадался написать: «Знать, долго скитаться наскуча над ширью земель и морей, на родину тянется туча, чтоб только проплакать над ней». Странным было рождение Фета, не менее странной была и его смерть: он, которому нельзя было бегать, разбежался однажды и умер. Кто знает, куда он бежал.
Фет догадался написать еще о многом, но до этого не было абсолютно никакого дела кузнецу. Он ронял тяжелые капли пота, обожженного свечением кузнечной печи, думая об одном: лишь бы не поранить лошадь. Кузнец не был поэтом, но ведь и Фет был прозаиком. Не меньше, чем фетовские стихотворения, зрителей истории удивляет прозаичность жизни барина, удивляет его патриархальный уклад, удивляет вся его житейская судьба; они кажутся большим парадоксом. Но парадокса не было, как и не было никакой раздвоенности натуры. Бытовой жизнью барина жил вовсе не двойник поэта. В этом удобно усматривать феномен Фета, но феномен Фета именно в том, что по сути он – прозаик. Прозаик пушкинского типа. Фет не близок к небожителю Тютчеву, всю жизнь стремившемуся спуститься с небес и обрести земное гражданство. В этом Тютчеву помогала политика, но, как шестикрылый Серафим, обратно в небо рвалась тютчевская поэзия. Фет от Тютчева далек. Если к кому-то Фет и близок, то только к Пушкину. Подобно Пушкину, Фет из бытия добыл романтику, из печали – радость. Вернее, даже не добывал, а заметил в пыли зорким барским глазом и не прошел мимо: в хозяйстве пригодится. В «хозяйстве» сердечного трепета. Настолько большим был Фет прозаиком, что он был как бы выше прозаических сюжетов, был к ним снисходителен, боролся с их искушающим содержанием. И достигал такой степени великодушия, что свои грандиозные романы сжимал до размеров маленького стихотворения, оставляя для того же «хозяйства» только неразменную монету метафоры «Все, что волшебно так манило, из-за чего весь век жилось, со днями зимними остыло и непробудно улеглось. Нет ни надежд, ни сил для битвы – лишь, посреди ничтожных смут, как гордость дум, как храм молитвы, страданья в прошлом восстают». Многое в жизни важнее романа. Важнее романа и посещение деревенской кузницы, где перековывали Закраса. Буквальный смысл происходящего в кузнице включал все переживания Фета, все его лучшие чувства, потому и терялась необходимость растягивать описание факта на несколько страниц. Предстоящие версты под новыми подковами, в том числе и версты от фетовского имения до Ясной Поляны, представлялись гораздо более важными, чем строки, описывающие эти версты. И оставалась в чуткой душе лишь единственная искра, слетевшая с наковальни, и ею походя можно было разжечь маленькое стихотворение. А искра родилась от удара молота по горящей подкове. Не так же ли и лунных скакунов вот такие же не бог весть какие мастера подковывали в небесных мастерских? И уже из-под тех подков во время поездки героев на совет к пророкам или ангелам летели звездопадные искорки на землю? «Молятся звезды, мерцают и рдеют, молится месяц, плывя по лазури, легкие тучки, свиваясь, не смеют с темной земли к ним притягивать бури». И впрямь едва ли можно к лазурным стихотворениям с темной земли притягивать бури многотомных романов. Но ту искорку, слетевшую с наковальни, Фет упустить не мог, то есть не мог оставить ее пропадать среди золы. Но не мог Фет и другое: отвлекая себя от больших хозяйственных забот, из этой почти нерукотворной искры раздувать рукотворное пламя. Человеку дана только эта искорка, потому не было никакого смысла вымучивать пожар. В этом и заключалось поистине земное, прозаическое отношение Фета к поэзии: Фет звезд с неба не хватал, но и не упускал их, когда они падали невдалеке во время его поездки к неисправимому романисту. А когда звезды не летели на землю, Фет тоже не переживал, отыскивал в кладовых души чеканное золото мудрости: «Видны им наши томленья и горе, видны страстей неподсильные битвы, слезы в алмазном трепещут их взоре – все же безмолвно горят их молитвы». Фет тяжело добирался до романиста, со всякими дорожными приключениями, что и не мудрено. Казалось, все окрестности Ясной Поляны были перепаханы вдоль и поперек этим графом и пахарем русского слова. Фет же был просто помещиком. Он и в поэзии был помещиком. Он не упускал являвшиеся образы, но и не разбрасывался ими – так же, как и золотые монеты в кошельке не тратил без надобности. «Но, просветленный и немой, овеян властью неземной, стою не в этот миг тяжелый, а в час, когда, как бы во сне, твой светлый ангел шепчет мне неизреченные глаголы». Так же, как из золотой пшеницы на своих полях он не стремился вырастить звездное поле, а из метафор, найденных на земле, он взращивал только лирические стихотворения, а не романы в стихах, и тем более не эпопеи. Прекрасно, что эпопеи писал одаренный громадами нечеловеческих амбиций Лев Толстой, и замечательно, что этого не делал не менее верный своей природной сути Афанасий Фет. В другом случае была бы неестественность, а здесь – первозданность, нечасто встречающаяся среди рисующих чернильные очертания стихов. Стихотворения же Фета говорят об исключительном соответствии его человеческой сути и поэтического дарования. В жизни Фета отсутствовал парадокс еще и по той причине, что стихам, уподобленным ритмике и музыке земли, ничего в природе не противоречит, кроме антипоэзии злобных помыслов. Иногда Фет посылал Толстому чистейшие стихи, написанные на листочке, на обратной стороне которого выведено было, может, не менее важное для Фета: стоимость керосина – 12 копеек. И при этом Фет помышлял вовсе не о горючем для небесной керосинки заката. В небесах есть кому отвечать за солнце и луну, а Фету следовало думать прежде всего о своем светильнике, возле которого он иногда записывал свои стихотворения, а чаще всего занимался арифметикой пашен, считал гектары и центнеры, читал романы графа и переводил «Фауста». И возле ароматной керосинки, израсходовав горючего копеек на 10-11, выводил строки: «В пример себе певцов весенних ставим: какой восторг – так говорить уметь! Как мы живем, так мы поем и славим, и так живем, что нам нельзя не петь!». Вот так, ни в чем не изменяя порывам своей души, жил Фет, причисленный к самым чистейшим поэтам... Фет жил в деревне, в чем тоже была неслучайность. Если кто-то отождествлял Россию с небесной державой, то Фет ее отождествлял с деревней и природой. Фет был помещиком равнинной поэзии. В звоне ли только заката над собственной неизменно возделанной пашней слышалось Фету то, что «прозвучало над ясной рекою, прозвенело в померкшем лугу, прокатилось над рощей немою, засветилось на том берегу...»? А может, это слышалось еще и в звоне слетевшей чеки на каменистой дороге? И здесь не почудилась тончайшему прозаику Фету искра от удара чеки о камень. Фет услышал только правдивый звон и честно о нем рассказал. Рассказал, причем, как истинный помещик, – как бы положил по возвращении в имение в сундучок с золотыми монетами, авось пригодится для чего-нибудь. Хотя бы – чтобы приобрести восторг и еще несколько звездных мгновений свободы. Такой восторг и такая свобода рождаются только при сотворении стиха, а само стихотворение можно послать Толстому. Может, сапоги подобьет при случае. Фет едва ли босиком ходил по пашне, нащупывая, как Толстой, неведомые следы. Сапоги нужны ему для того, чтобы нога не соскользнула с родной земли. В этом смысле сапоги, что мастерил Толстой, наиболее надежны. Фет не стремился землю поднимать в небеса и небо не старался спустить на землю. Но Фет временами поглядывал на то призрачное место, где соединялись небо и земля. Луга его и пашни в особые часы заката дотягивались до этого места, касались его, как блестящая подкова касалась дорожного камня. А в камне, может, и небо само заключалось, ведь камень тот когда-то мог быть и метеоритом. Пожалуй, и метеориты пригодились бы Фету в поместье. А там, на месте соединения земли и неба, росли деревья, и Фет их видел: «Как будто, чуя жизнь двойную и ей овеяны вдвойне, – и землю чувствуют родную, и в небо просятся оне». Добывание земного золота требовало от Фета не меньшей энергии, чем накопление золотых монет метафор. Это тоже проявление метафорической цельности фетовской натуры. И поэтические образы Фета были подобны небесным золотым монетам, упавшим на землю в тот момент, когда кто-то небесный, подобно Фету, потерял дворянский чин. Причем – упавшим «орлом» и, соответственно, принесшим много удач. Что на эти монеты можно было приобрести? Золотую вечность. Однако ей предшествовала семейная катастрофа Фета, когда власти признали незаконным его крещение сыном помещика Шеншина. На его голову упал многолетний позор. (Хотя как можно крестить поэта, которому от рождения суждено не только услышать, но и увидеть скорбную молитву звезд?) Но усердный Фет вновь добыл дворянство из тяжелых русских сумерек, как Пушкин добыл радость из тяжелого камня печали, из тысячелетних тревог языка. А могут ли образы возникать без участия языка, без участия слова? Наверное, могут, как фетовские образы, когда «твой светлый ангел шепчет мне неизреченные глаголы». Эти глаголы не рождают стихов, они рождают только парение, но после парения и вознесения глаголы ищут поместья, изначально принадлежащие крепким землевладельцам. Глаголы ищут таких помещиков на земле, которые и сами долго искали свои имения и которые после долгих мытарств на земле, как глаголы после мытарств на небе, все-таки их нашли. Фет, чуткий к гармонии земных звуков, не боялся тривиальности и рифмовал молитву с битвой, поскольку его сокровенные поиски родного поместья велись в постылых местах бесконечных битв. Но в этих местах поиски оказались тщетными: Фет не смог дослужиться до полковника, чтобы получить дворянство. Ему пришлось пойти по другому пути: женившись на сестре своего друга, на ее деньги купить усадьбу. И только по той единственной причине, что на этой усадьбе оказался Фет, она стала местом соприкосновения луны и креста на косогоре, неба и земли и, наконец, – сверкающих подков Закраса и каменистой дороги в сторону Ясной Поляны... Никто не смотрел вслед Фету, когда он ночью выходил погулять во мраке своей усадьбы. И кому смотреть, если никакая женщина его в то время уже не боготворила; и никто не замечал: искрилась или нет кремнистая земля под сшитыми Толстым сапогами. Но вряд ли искрилась, ведь вряд ли об этом думал Фет. Он думал о другом: «Пестреет мгла, блуждают очи, кровавый призрак в них глядит, и тем ужасней сумрак ночи, чем ярче светоч мой горит». Он думал об ужасе сумрака, он думал об ужасном действии озвученного глагола, что нашептал ангел в особый миг; Фет думал об ужасе многовекового сумрака в своем пространстве, в который он нырнул в чреве красивой еврейки и который предстояло ему высвечивать изнутри. Это ужасно, когда речь идет о поэзии, о шепоте светлого ангела. «Горел мой факел величаво, тянулись тени предо мной, но, обежав меня лукаво, они смыкались за спиной». Здесь – и образ семейной драмы Фета, и тени преследователей поэта, и лукавый, отменивший изначальное крещение Фета. Фет упорно добивался барского положения. Но как завоюешь эту землю, как завоюешь хотя бы поместье на этой земле без посреднической помощи русского слова! К этому слову Всевышний вел Фета трагической дорогой, совсем не похожей на дорогу в Ясную Поляну. Есть версия академика Грабаря: «...отец Фета, офицер русской армии двенадцатого года, возвращаясь из Парижа, через Кенигсберг, увидел у одной корчмы красавицу еврейку, в которую влюбился. Он купил ее у мужа, привез к себе в орловское имение и женился на ней...». А в это время, говорят, красавица еврейка была беременна Фетом. В это предположение верил Толстой, и еще многим в России удобно было так думать. Но у гипотезы есть и своя метафизика: что поделаешь, если у еврейской корчмы горел огонек мировой русской поэзии, и офицер, возвращаясь с войны, покорив антипоэтические силы, не мог не привезти на родину поэзию, искру метафоры, будто выскочившую из-под сверкающей подковы резвого коня. Красота сверкнула в образе молодой еврейки на чужбине, но прелестные стихи, к которым она была физически причастна, требовались не ей, они требовались земле, ставшей фетовской. «Но безмолвствует, пышно чиста, молодая владычица сада: только песне нужна красота, красоте же и песен не надо». Нередко русская метастихия притягивала из иных стихий (а временами даже на золотые монеты покупала) таланты, чтобы расширять свое мировое влияние, усиливать, утверждать во Вселенной прекрасную доминанту величия, чтобы высвечивать трагические сумерки... «Уж сумраком пытливый взор обманут. Среди тепла прохладой стало дуть. Луна чиста. Вот с неба звезды глянут, и, как река, засветит Млечный Путь». С фетовской земли виднее Южный Крест, отсюда заметнее Большая Медведица, и, самое главное, только отсюда и Млечный Путь уводит к Всевышнему. Так что и поместье, купленное на деньги русской женщины, своими каменистыми дорогами, по которым вольно скакал Закрас, будто не в сельской кузнице подкованный, а в лунной мастерской, было соединено с Млечным Путем. И только в этих местах и брала свой золотой разбег душа. «Не первый год у этих мест я в час вечерний проезжаю, и каждый раз гляжу окрест, и над березами встречаю все тот же золоченый крест...». И не это ли самое сверкание креста и заковало прекрасные глаголы, которые нельзя ни услышать, ни озвучить. Они – животворящи, и сверкание, отвергающее все человеческие наречия, признает только язык зеленого цвета на земле. Поэту же дано лишь понять это, но такое понимание несравненно выше стихотворчества: «Среди зеленой густоты карнизов обветшалых пятна, внизу могилы и кресты, и мне – мне кажется понятно, что шепчут куполу листы...». Понимается и иное: впереди много дорог, впереди много верст для Закраса, которого придется еще многократно перековывать, чтобы искрилась под его ногами земля, ведь впереди вечность, а на краю вечности – вновь эти места. Впереди – родина, а встреча с ней, где бы это ни случилось, – праздник. «Еще колеблясь и дыша над дорогими мертвецами, стремлюсь куда-то, вдаль спеша, но встречу с тихими гробами смиренно празднует душа». Странным было рождение Фета, не менее странной была и его смерть: он, которому нельзя было бегать, разбежался однажды и умер. Кто знает, куда он бежал. Никто, скорее всего, не видел в ноябрьском небе Млечный Путь, но Фет бежал по нему. Бежал он в вечность. И не споткнулся ли о громоздкую тучу? Но не сам ли он и ее вознес в небо, когда она камнем на дороге перекрывала путь Закрасу в сторону Ясной Поляны? «Как Сизиф, тащу камень счастия в гору, но он уже бесконечные разы вырывался из рук моих». Так же Фет и тучу вознес в небо, так же, пожалуй, и на Воробьевский косогор Фет таскал кремнистые каменья, которыми выстлан его Млечный Путь. Натура Фета была исключительно цельной, и разве что в минуты восторга и озарения, чтобы хоть миг отдохнуть от самой себя, она раздваивалась, разлетаясь чайками из груди. «Ночь светлеет и светлеет, под луною море млеет; различишь прилежным взглядом, как две чайки, сидя рядом, там, на взморье плоскодонном, спят на камне озаренном». О такой камень не могла споткнуться резвая фетовская лошадь. И мог ли Фет не заботиться о том, как подковывал эту лошадь деревенский кузнец, хотя Толстой нередко упрекал поэта за бытовые хлопоты? Как еще можно было пережить неописуемо прелестное, волнующее и неповторимое чувство, когда при возвращении Фета из Ясной Поляны стремятся ему навстречу и приближаются к нему огни деревень его собственного имения, как будто они бегут навстречу, а не Закрас скачет вперед. Движутся воробьевские огни навстречу, помогая Фету окончательно завоевать этот край, расширяют его владения, притягиваясь к низким звездам, как бы и Воробьевку приближают к вышине. И разве можно было не перековать лошадь, разве можно было не ругать кузнеца, разве можно было допустить, чтобы лошадь споткнулась на пути, который сам – движение. Встречные огни до безграничности расширяли метафизические владения Фета в глубине здешних сумерек, делая их призрачными и вечными одновременно. Но когда Закрас за много лет обскакал все доступные просторы, когда Фетом – нередко и в сапогах от Толстого – были пройдены сотни верст, помещику захотелось пройти по Млечному Пути. Не его ли Фет молчаливо приближал к себе, старательно обустраивая родную землю, невзирая на учительское недовольство Толстого? На недовольство ментора Фет реагировал тоже чаще всего молчаливо, ограждая этим молчанием и терпимостью свое золотое, как и Млечный Путь, желание, едва ли понятное графу. Знал же Фет, что сердце уже бесповоротно решило выпорхнуть из гнезда груди, знал, что нельзя резкими движениями вспугивать его раньше времени, однако – побежал и умер. Тропа Фета закончилась в том месте, где над землей начинался Млечный Путь. Он звездно пылил над Воробьевкой, а там, на озаренном камне, как те же две чайки, прислушивались к вечности и едва ли понимали смысл светлых звуков душа и муза Фета. Если когда-то и случилась пресловутая раздвоенность Фета, то лишь после смерти, а до смерти все было в едином контексте: и душа, и поместье, кстати, купленное на деньги очень похожей на музу-хранительницу Марии Боткиной. Фет давно мечтал о такой музе «с хвостом тысяч в двадцать пять серебром». Сердце музы было обескрылено трагической любовью к другому человеку, но не так же ли и высшая вдохновительница порой случайно находит поэта? Эта гениальная случайность подобна дару, ведь муза неизменно находит того, кому она нужна. Ей-то мало кто нужен. Прозу в поэзии Фета плохо понимал Толстой, но за это Фета любил Чайковский. За преданность обету молчания. Крепостью, защищающей обетованность лунного безмолвия, являлась бытовая проза фетовской жизни.
Закрас пронес Фета по земле, довез до края Млечного Пути. Сойдя с седла, Фет решил еще немного пробежаться, а уверенности, чтобы ступить на вечную тропу, все же не было: «Не жизни жаль с томительным дыханьем, что жизнь и смерть? А жаль того огня, что просиял над целым мирозданьем, и в ночь идет, и плачет, уходя...». Уходит в ночь. Не потому ли и ночная песнь путника, написанная Гёте много лет назад, как бы по световой почте вечности, как и родословная Фета, достигла его чуткого слуха и показалась ему родной: «Ты, что с неба и вполне все страданья укрощаешь и несчастного вдвойне вдвое счастьем наполняешь, – ах, к чему вся скорбь и радость! Истомил меня мой путь! Мира сладость, низойди в больную грудь!». Не являются ли многочисленные переводы Фета, особенно переводы античных творений, продолжением того самого поиска своего имения на земле, своей провинции, своей родословной в мифологической провинции мира? Не являлась ли когда-то и Древняя Греция земным имением Всевышнего, ныне утраченным, подобно утраченному фетовскому имению? Есть же едва уловимое родство между «чистотой» лирики Фета и первозданной чистотой древнего мифа: «День смолкает над жаркой землей, и, нетленной пылая порфирой, вот он сам, Аполлон молодой, вдаль уходит с колчаном и лирой...». Мир един вместе с Элладой и Русью, Фет тоже един вместе с лирикой своей и помещичьими замашками. Удивительно родство между его внутренней и внешней жизнью; когда вспоминается мельница Фета в Воробьевке, видятся жернова, пропускающие зерна звезд; при мысли о коневодстве Фета неизменно возникают его солнцегривые лошади, проносящиеся вместе с ним по земному отпечатку Млечного Пути, бегущие гремящей рысью в Ясную Поляну. А что касается фетовского прозаического служения мировым судьей, то это тоже чистое, как стихотворение, проявление поэзии. Итак, Фета не отличала раздвоенность сути. Разве стремление вернуть утраченное дворянство не похоже на отчаянное и воинственное желание вернуть почти утраченное чистое вещество метафоры? Утраченное, может, в той же античности, а может – во времена отвлечения людей Мефистофелем. Поэзия на земле Фета с той поры – в постоянном поиске утраченного. Перевод «Фауста» на русский язык – перевоз Фауста с сумеречного немецкого берега на озаренный (тоже после сумерек) русский берег. Возвращение на родной берег, а не отплытие на чужой волновало Фета: «Вдали огонек за рекою, вся в блестках струится река, на лодке весло удалое, на цепи не видно замка. Никто мне не скажет: «Куда ты поехал, куда загадал?» Шевелись же, весло, шевелися! А берег во мраке пропал. Да что же? Зачем бы не ехать? Дождешься ль вечерней порой опять и желанья и лодки, весла и огня за рекой?..». Скорее всего – русского огня. Только он не нужен, не нужен он Фаусту, не его стихия – русский язык; вернее – не нужна Фаусту чистая фетовская метафора, рожденная в звоне сорвавшейся чеки, когда повозка по земному Млечному Пути мчалась в Ясную Поляну, а скорее всего – когда мчалась обратно. Поэтична и служба Фета в качестве мирового судьи. Сколько он видел крестьянских драк и поножовщины на меже! А межа, залитая кровью или закатом, могла быть похожа на черту, делящую Фета на поэта и помещика. Но неделимый Фет мировым судьей встал над кровоточащей межой, которая напрашивалась и в его жизнь, чтобы барина отделить от поэта. Но помести эту межу в душу Фета, она кровоточила бы больше, чем возле сумеречных деревень. А в сумерках этих таилась вселенская красота, от которой, как огонь от кремния, рождались песни, но сами они не нужны были красоте, как тот же огонь кремнию. Красоте не нужно и слов, но ей необходим звон сорвавшейся чеки, необходимы гремящие жернова фетовской мельницы, необходимо мгновение фетовского ощущения единственности мига: «Да что же? Зачем бы не ехать? Дождешься ль вечерней порой опять и желанья и лодки, весла и огня за рекой?..». Может, и этих стихов красоте не нужно, но где сама она – красота, где поэзия? Она далеко, но не дальше золотого горизонта, почти касающегося блестящих железных крыш Воробьевки, до которой за считанные мгновения доскачут фетовские лошади, возвращающие барина, возможно, с новыми сапогами от Толстого, признавшегося однажды Фету: «Кроме вас у меня никого нет». Может быть, даже свои сапоги отдавал Толстой Фету перед тем, как босиком ступить на землю. У Фета же, кроме Толстого, был Гоголь, что когда-то одобрительно отозвался о первой тетрадке фетовских стихотворений. Не столько, наверное, сами стихи понравились, сколько те «неизреченные глаголы», что уже тогда собирался нашептать Фету светлый ангел. Не мог Гоголь – вещая адская птица – не почувствовать этого; не мог Гоголь не увидеть и другого: Фет, так похожий на коренастое дерево, соединял рай и ад, землю и небо, прозу и поэзию. Гоголь не мог не заметить уже тогда растущую на земле райскую ветку, на которую можно присесть на миг, перелетая. Куда – это уже дело только Гоголя, но речь только о Фете – прозаике. Но Фет – такой прозаик, чья проза находила обитель в поэзии. Это у Толстого такая тягостная доля, что лунное сияние он прячет от Достоевского во вспаханную пашню, что зерна вечности бросает в жернова мельницы в своем имении. Обитание поэзии в прозе больше характерно для Толстого, и в этом граф и Фета подозревал, критиковал его за излишнее увлечение прозой жизни, но у Фета все было наоборот: «Пруд как блестящая сталь, травы в рыдании, мельница, речка и даль в лунном сиянии». А речь идет о мельнице, еще ранней осенью устраивающей в Воробьевке безвременную зиму. За это и ругал Фета Толстой, считавший, что в жизни прозрачного поэта не должно быть тягостной прозы. Прозу в поэзии Фета плохо понимал Толстой, но за это Фета любил Чайковский. За преданность обету молчания. Крепостью, защищающей обетованность лунного безмолвия, являлась бытовая проза фетовской жизни. Но Фету, уже не на шутку ставшему помещиком, безмолвие становилось тягостным: «Долго ли душу томить в темном молчании!». Чайковский и Толстой созерцали чудную крепость с разных сторон солнцестояния над землей Фета. Чайковский созерцал Фета с западной стороны, когда догорал закат, когда загорались звезды, когда ангелы начинали прятать свою безмолвную песнь в прозрачных голосах. Это услышал Фет и сказал об этом, а Чайковскому, уловившему фетовское откровение, хотелось узнать, то же ли чудилось только что и ему самому. «Я долго стоял неподвижно, в далекие звезды вглядясь, – меж теми звездами и мною какая-то связь родилась. Я думал... не помню, что думал; я слышал таинственный хор, и звезды тихонько дрожали, и звезды люблю я с тех пор...». Глаголы безмолвия нашептали ему ангелы, чей хор Фет слышал и в светлом присутствии звезд. Возможно, эти глаголы были о любви, ведь неспроста же поэт, храня завет неизреченности глаголов, все-таки выразил их, спрятав в надежном убежище существительного. В горнице этой части речи глаголы были встречены сущим свечением: «Шепот, робкое дыханье, трели соловья, серебро и колыханье сонного ручья, свет ночной, ночные тени, тени без конца, ряд волшебных изменений милого лица. В дымных тучках пурпур розы, отблеск янтаря, и лобзания, и слезы, и заря, заря!..». Стихи эти – о не узнанной нами любимой женщине Фета. О сестре же своей он написал в воспоминаниях прозой: «С тех пор она часто навещала меня, и я всяким театрам предпочитал проводить вечер рядом с нею, усевшись у пылающего или догорающего камина, в котором она сама любила будить огонь». Вспоминая о сестре, должно быть, думал Фет и о вселенской музе, что каждый вечер будила огонь заката над фетовской Воробьевкой. Фет – мировой русский поэт. Лишь чистая, как лунное молчание, метафора может быть светла для мира. Но Фета мало кто при жизни видел выше воробьевского косогора или же – выше пятого этажа. Особенно – прозаики. Тургенев писал: «...на меня находит грусть, если я долго не вижу ваш связно-красивый, поэтическо-безалаберный и кидающийся из пятого этажа почерк». Но из пятого ли только этажа кидался фетовский почерк, не взять ли выше, хотя бы уровень горы, чья кремнистая вершина отсвечивает высшим сиянием? Трудно поднимать высоко голову, лучи безмолвия могут быть ослепительными. Но это – высота поэтическая, она и не для всех стихотворцев доступна, даже их порой доводила до отчаянного недоумения. «Что ты за существо, – писал Фету Полонский, – не понимаю. Откуда у тебя берутся такие елейно-чистые, такие возвышенно-идеальные, такие юношественно-благоговейные стихотворения? Если ты мне этого не объяснишь, то я заподозрю, что внутри тебя сидит другой, никому неведомый человек, окруженный сиянием, с глазами из лазури и звезд и окрыленный! Ты состарился, а он молод! Ты все отрицаешь, а он верит!.. Ты презираешь жизнь, а он, коленопреклоненный, зарыдать готов перед одним из ее воплощений...». Видимо, поэзии было угодно, чтобы «второстепенный» поэт Полонский оставался в классическом неведении. Не потому ли поэзия является вечной, что читающие поколения веками стремятся разгадать, о чем же так лунно молчали поэты, то есть – не потерялись в бездне тщетной философии, а отразили вселенский свет, когда он коснулся земли. Ну а Полонскому Фет вряд ли что объяснил. И неизвестно, часто ли Полонский перечитывал: «Я тебе ничего не скажу, и тебя не встревожу ничуть, и о том, что я молча твержу, не решусь ни за что намекнуть...». А может, Полонский полагал, что это и впрямь о любви?.. Камиль Тангалычев
Материал распечатан с информационно-аналитического портала "Евразия" http://evrazia.org
URL материала: http://evrazia.org/article/1346 |
|||||